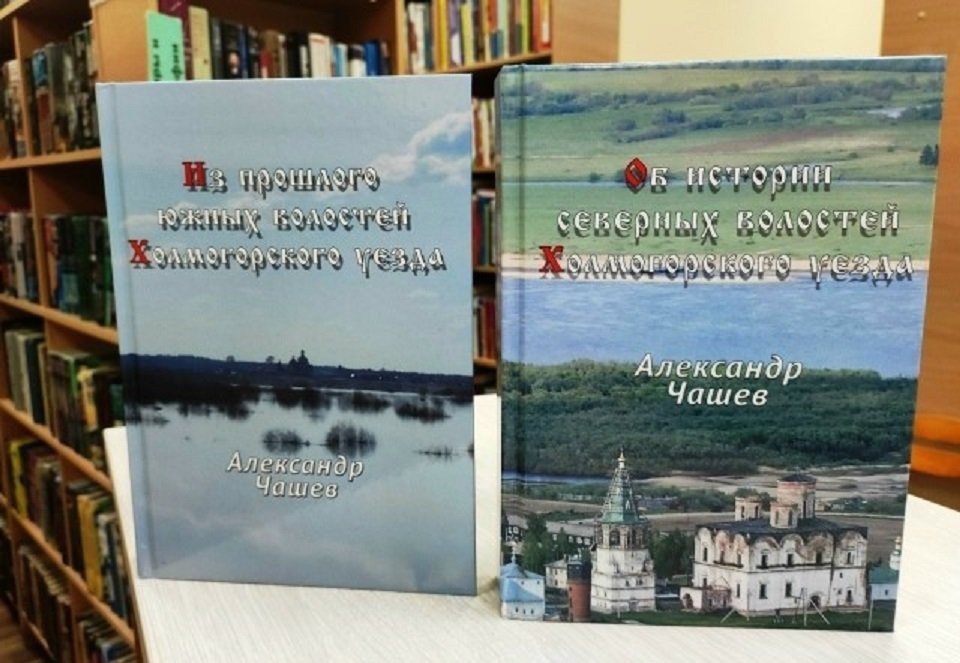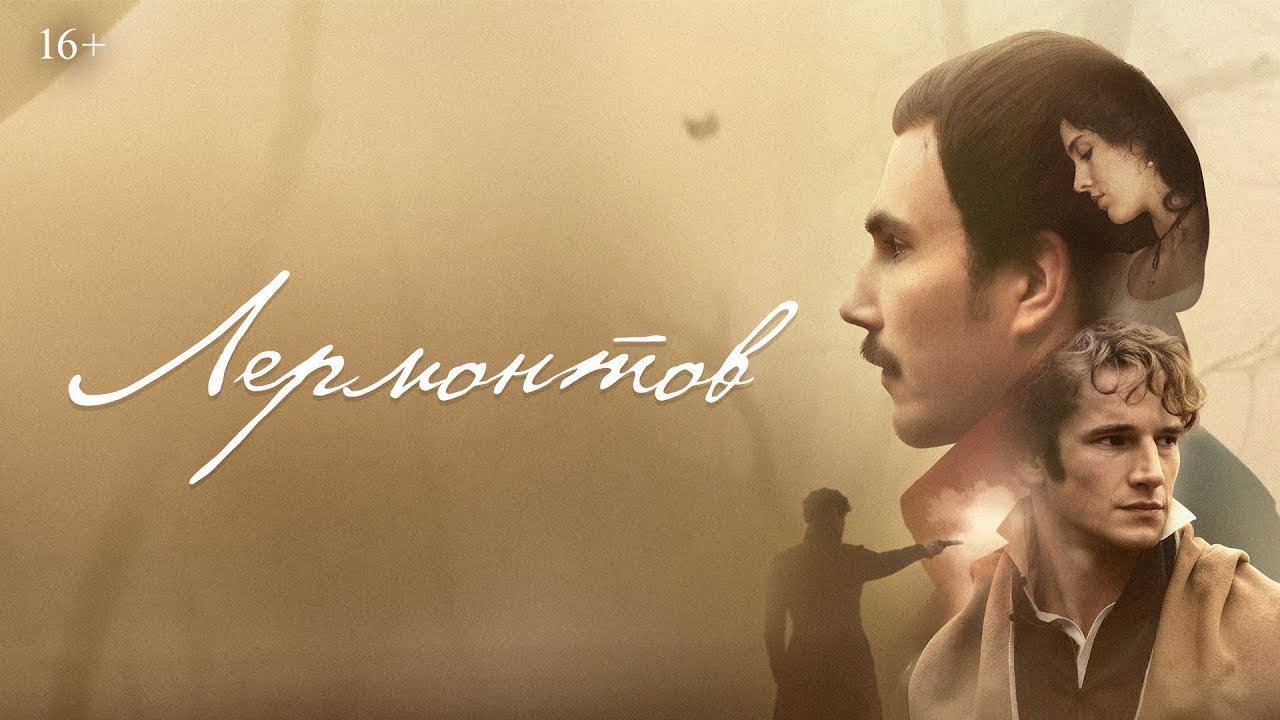Крестник. Северная притча

На самом краю северной деревни – там, где начинался густой непроходимый лес, – вековали век в доброй избе муж и жена. Звали их Егор и Феодосия. Супруг был уже не молод, но ещё кряжист как дуб, только седина перебивала чернь волос, напоминая о нелёгкой жизни, полной труда и невзгод. Под стать ему была и супруга: хоть и полна, но лицом красна, только морщины слегка исчертили его от печали.
Много лет проживали супруги вместе, кое-какое богатство скопили, а вот детей Бог им так и не давал. Сколько слёз пролила Феодосия тоскливыми зимними ночами, сколько молитв к Господу и Его Пречистой Матери вознесли супруги, но всё было напрасно – видимо, наказал их Бог бесчадием. Думали они, думали, за что им такой позор, да грехи свои перебирали – и до того стали мнительными, что отгородились от всего мира, оставшись на своём отшибе у самой кромки леса, будто на острове необитаемом: никто к ним более не ходил и они никого не навещали.
А когда муж и жена совсем потеряли надежду, предались унынию так, что весь дом их затянуло пылью и паутиною, нечаянно Феодосию затошнило. Испугалась она сначала, потом потихоньку допустила в сердце радость и в свой срок родила сына – крепкого да голосистого. Не ребёнка, а богатыря.
На сороковой день после родов жена сказала, укачивая младенца: «Егор, надобно кума искать, окрестить дитятко. Грех большой без креста расти – так беды не миновать». Муж, кряхтя, поднялся, шапку нахлобучил и остановился на пороге: «Куда ж мне идти-то, Феодосьюшка? В деревне-то нашей мы век ни с кем не разговариваем – старые знакомые и те давно раззнакомились. Никто к нам в кумовья не пойдёт». «Ищи, Егорушка, – настаивала Феодосия. – Сходи в соседнюю деревню, может, там кто согласится. Без кума никак нельзя мальчонку крестить».
Муж тяжко вздохнул, взял посох и отправился за семь вёрст в соседнюю деревню. Шёл он долго по разбитой дороге, которую и дорогой-то не назовёшь – так, направление. Брёл, еле ноги волочил, да всё зазря: никого в кумы так и не нашёл. На обратном пути повстречал Егор старика, маленького да горбатенького, одетого в разномастные лохмотья не со своего плеча, в разбитых сапогах, из которых торчали ноги. Остановился дед, прося в дырявую шапку подаяние. Дал ему Егор на житьё три копейки и побрёл домой. Так ни с чем и вернулся.
Рассказал он всё жене, а она и говорит, не отступаясь: «Иди завтра на станцию – там железная дорога, народу много быват. Вот кума и найдёшь». Нечего делать – встал Егор утром пораньше и побрёл на станцию за двенадцать вёрст. Только и там он никого в крёстные отцы чаду своему не нашёл: на станции все спешат – недосуг в деревню какую-то идти. На обратном пути он вновь повстречал того же старика. Дал Егор ему несколько монет на хлеб и чай и с тем побрёл домой. И так на второй день явился муж к жене не солоно хлебавши.
А она стоит на своём: «Иди, муженёк, на перекрёсток к Поклонному кресту и там кого первого встретишь, того в кумовья и зови». Надо так надо – пошёл Егор за три версты на перепутье, Поклонным крестом отмеченное. А там стоит тот же потрёпанный жизнью старик.
Нечего делать – подошёл к нему Егор и говорит: «Здравствуй, дедушко! Бог в помощь!» «И тебе не хворать!» – звонко ответил дед. «Беда у меня: Бог дитя дал, а кума найти не могу». – «Ну, то не невзгода – Христос всё управит». – «А ты, старичок, не пойдёшь ли ко мне в кумовья?» – «Дак стар я очень, крестник будет ещё мал, а я уж, гляди, и помру… Кто наставлять его будет? Разве Сам Господь со Своею Пречистою Матерью…» – «Пусть так, дедушко». – «Ну тогда пущай – значит, так Богу угодно. Пойду я в крёстные отцы. Только наперёд надо имя дитю подобрать, а иначе я не согласен. Назови его в честь праведного Иова Многострадального». – «Ну что ж, Иов был человеком богобоязненным, боголюбивым и оттого благочестивым. Всем сердцем был он предан Господу Богу и во всём вёл себя согласно с Его волей, удаляясь от всего дурного не только в делах, но и в мыслях. Святые говорили, что Иов не просто праведник Старого Завета, а прообраз безгрешного Страдальца Иисуса Христа. Иов – имя доброе и сыну моему подходящее».
Так и порешили. Нарекли имя младенцу Иов, ну а опосля и окрестили его в честь святого Иова. А потом устроили крестины: стали кормить-поить священника с диаконом да дьячком всем, что в закромах было, старика же усадили у самой двери, на самое простое в доме селище из комля сосны с корнями-ножками. Правда, и ему от разносолов дали что осталось да куском хлеба с квасом наделили.
Поев, встал он, поблагодарил хозяев за благодеяние, поклонился всем в пояс, подошёл к люльке и надел на шею крестника золотой крест на золотом же гайтане – таких вторых нету на свете. После чего повернулся к куму с кумой проститься – обнял троекратно по нашему северному обычаю, поцеловал и ушёл. С тех пор никто деда того и не видел. Жизнь же у радушных и хлебосольных хозяев Егора и Феодосии после этого светлее стала.
Шли годы. Младенец пришёл в пору доброго отрока, а потом, возмужав, стал прекрасным юношей. Родители не могли нарадоваться, глядя на своё дитя: и трудолюбив он, и службы Божии любит, и с отцом и матерью ласков, и умён, и учение книжное достаточно изведал. Когда же вырос он до полного возраста, то стал спрашивать у матери с отцом: «Тятенька да матушко, был ли у меня крёстный батюшка?»
Матушка ему говорит: «Взяли мы, сыночек, в крёстного тебе бродягу, которого даже за стол не посадишь, и опосля того случая в избе нашей не бывал он». Тятенька же добавил: «С крещения твоего не видали мы человека того. Да и стар он годами уже в ту пору был, а теперича, должно быть, и вовсе помер». Но Иов настаивает: «Как бы мне крёстного батюшку своего найти? Крещёные люди идут в церковь на Пасху, христосуются с крёстными отцами, а мне не с кем». Ничего не ответили ему родители, только руками развели.
Наступило Светлое Христово Воскресение. Иов пришёл к заутренней в храм. Вдруг подходит к нему какой-то человек, обнимает его и молвит: «Христос воскресе, милый крестник мой!» «Вы мой крёстный батюшка?» – растерялся Иов.
«Хотя мы личного свидания за расстоянием местоположения лишены были, но милосердием Всемогущего и мудрованием духовной любви всегда имели соединение. Таково свойство духовного родства, которое прочнее кровных уз, сын мой», – ответил человек. «Воистину воскресе Христос, тятенька мой», – обрадовался Иов, троекратно расцеловав в щёки своего крёстного отца.
…Давно окончилась Пасхальная служба, а Иов всё не возвращается домой. Отец и мать, потеряв сына, искали его по деревне, всех расспрашивали: «Видели ли вы сына нашего у заутрени?» А встречные отвечали: «С крёстным отцом христосовался он, а далее не видели его. Видно, с ним и ушёл». «Крёстный тот стар да горбат был?» – спрашивала Феодосия. «Нет, молод, годов тридцати от роду, да статен», – отвечали люди. «Наш крёстный отец стар был, как Мафусаил. Так что это какой-нибудь дурной или сумасшедший человек увёл сына нашего», – причитала Феодосия.
Цельный год пропадал Иов неизвестно где – не было от него никакого слуху. А в следующую Пасху явился он на том же месте в храме, откуда пропал год назад. Вернулся в родительский дом из церкви и приветствует отца и мать: «Христос воскресе, родители мои!» Феодосия и Егор расплакались, что долго его не было, и стали расспрашивать сына: «Где же ты был целый год?».
«Был я у крёстного батюшки в гостях, – ответил Иов, – только не год, а миг какой-то. И уходить не хотел от него. Видел я там свет неописуемый и Престол, на небе стоящий, а на троне том был Сидящий. На Него я и взглянуть не мог: как упал ниц пред Ним, так и замер, пока крёстный не отвёл меня в храм обратно». «Видать, это ты к Самому Богу вознёсся, – рассудил Егор. – Верно в народе говорят, что у Бога один день как тысяча лет и тысяча лет как один день. Это какой же чудесный дед у тебя крёстный! Сам Сын Божий! А мы Его, дурни, у двери усадили да хлебом с квасом потчевали». «Что Он сказал тебе, сынок?» – спросила мать. «Ничего вроде. Только напоследок, уже в храме, прошептал на ухо: “Помни, Иов, имя своё – по нему и судьбина твоя. Посему терпи да молись”».
Шли годы. Познал Иов горечь утраты: сначала умерла его мать, а спустя пару дней и отец. Остался Иов один на белом свете. «Почему так сразу? – спрашивал он в мыслях у Бога. – Но да пусть будет не моя воля, но Божия. Значит, должен я пройти через испытания, чтобы стать сильнее духом. Слава Богу за всё! А это “всё” – в Его власти».
Вскоре у Иова пала от неведомой болезни скотина. Но и тогда он не озлобился, продолжая славить Господа и помогать людям, утешая страждущих. Через месяц сгорел добротный дом Иова, доставшийся ему от родителей, а вместе с ним погибло в огне и его немалое хозяйство. Потерял он всё. Казалось, что хуже быть уже не может. И пошёл он по миру странником. Бродя по стране, Иов стремился попасть в монастыри, чтобы побеседовать там с преподобными отцами, получить их наставления.
Но враг человека не дремал: он наслал на Иова всякие болезни, от которых трудно стало ему ходить по миру. Однажды, сидя на перекрёстке дорог, услыхал он вкрадчивый голос: «Иов, почему же ты не проклянёшь судьбу свою? За что ты благодаришь Господа, если жизнь твоя – сплошное страдание? Похули Его и умри, обретя покой».
Иов поднял глаза к небу и ответил: «Я благодарен своему Создателю за то, что живу. За то, что вижу солнце и ощущаю ветер. За то, что даже в горе могу сострадать другим. А ты отойди от меня, сатана! Верен я Богу своему даже до смерти». С молитвой, превозмогая боль и слабость, продолжил Иов свой путь, пока не уснул среди леса на старом пне. Тут явился ему во сне крёстный отец и сказал: «Я тебе желаю жениться. Есть у царя дочка Магдалина, лежит она в скорби и проказе. Возьми её себе в жёны». Проснулся от тех слов Иов, и нечего делать – побрёл в столичный город.
Пришёл он на царский двор и попросился прямо во дворец. Там Иов встретил государыню и говорит ей: «Милая царица, допусти меня до твоей дочери». Та отвечает: «Нельзя допустить до неё, ибо дочь моя очень заразительна, в гноище лежит, и весьма от неё смрад идёт. Сами её не видим – в окно пищу подаём». А Иов просится: «Ты не убойся, пусти меня: я её в обручество возьму себе». Тут царица заплакала: «Куда её, несчастную? Какое ей замужество?» «Не плачь, не рыдай, Бог всё управит», – успокоил её Иов.
Отвела она его в ту комнату, где лежала больная. Зайдя, он сразу полюбил царскую дочку – так она была прекрасна, несмотря на свою хворь и бледность. Взял он её за правую руку и сказал: «Вставай, дорогая Магдалина, пойдём со мною». Подала она ему свою руку, приподнялась, и тогда Иов поцеловал возлюбленную прямо в самые губы, от чего вся проказа отпала от неё на постель, и встала девица уже совершенно здоровой и румяной.
Так, после всех испытаний и бед, Иов взял в жёны царскую дочку. Свадьба была в самое Вознесение Христово. Гуляла вся округа, и казалось, счастью молодых не будет конца. Переехали они в царский дворец, и началась для Иова совсем другая жизнь. Только и палаты царские не смогли изменить Иова, который остался навсегда человеком с добрым сердцем и чистой душой.
Дмитрий Хорин
Главные новости
За кулисами политики
все материалы
ПроКино
все обзоры
Жизнь
Виктор Павленко: Анатолий Ефремов считал Поморье ключевым стратегическим регионом России в Арктике
Кулинарные путешествия
все статьи
Литературная гостиная
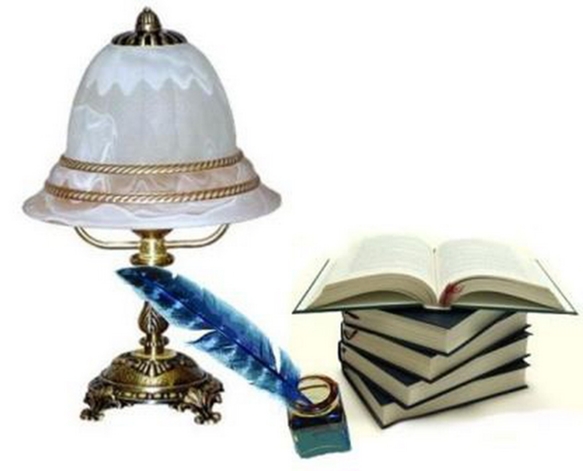 все материалы
все материалы
Архивы
Февраль 2026 (198)Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)

Деньги
все материалы
"Северодвинский торговый центр"
Верую
все статьи
Общество
все материалы
Разное
Золото в каждой капле: почему живое фермерское оливковое масло полезнее и вкуснее магазинных аналогов
Реклама
Дополнительные материалы
Полезное
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20