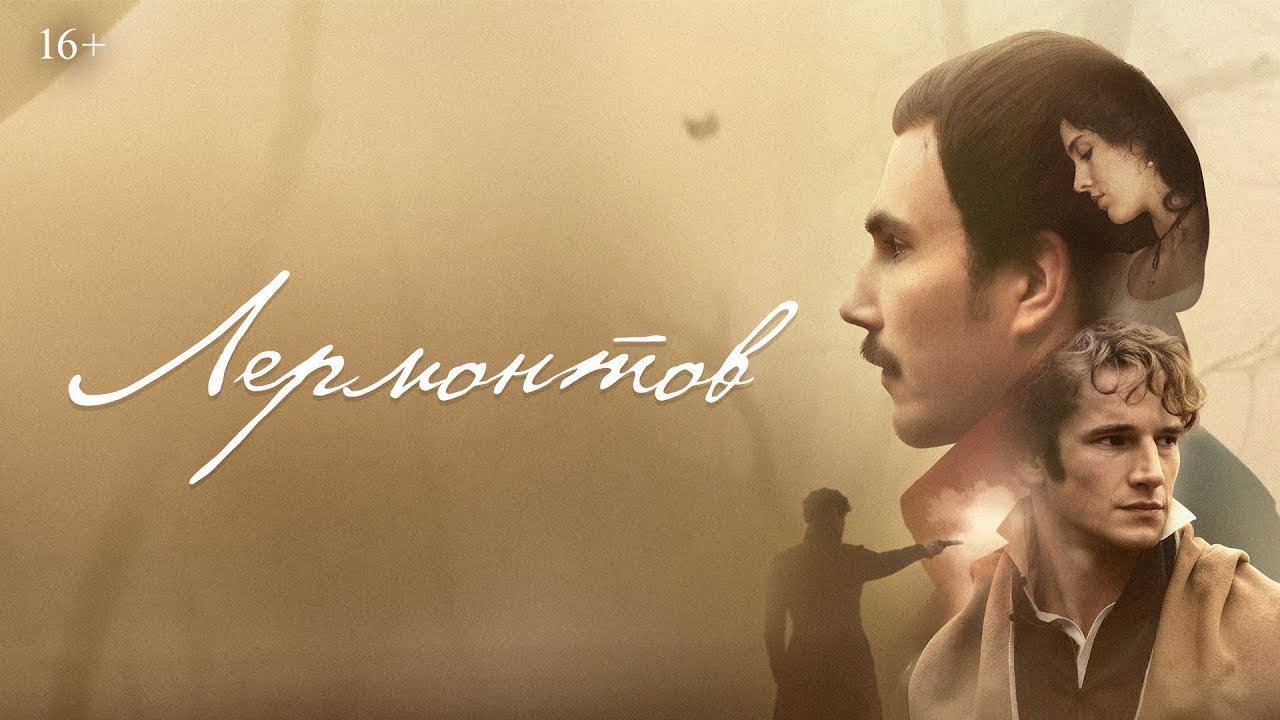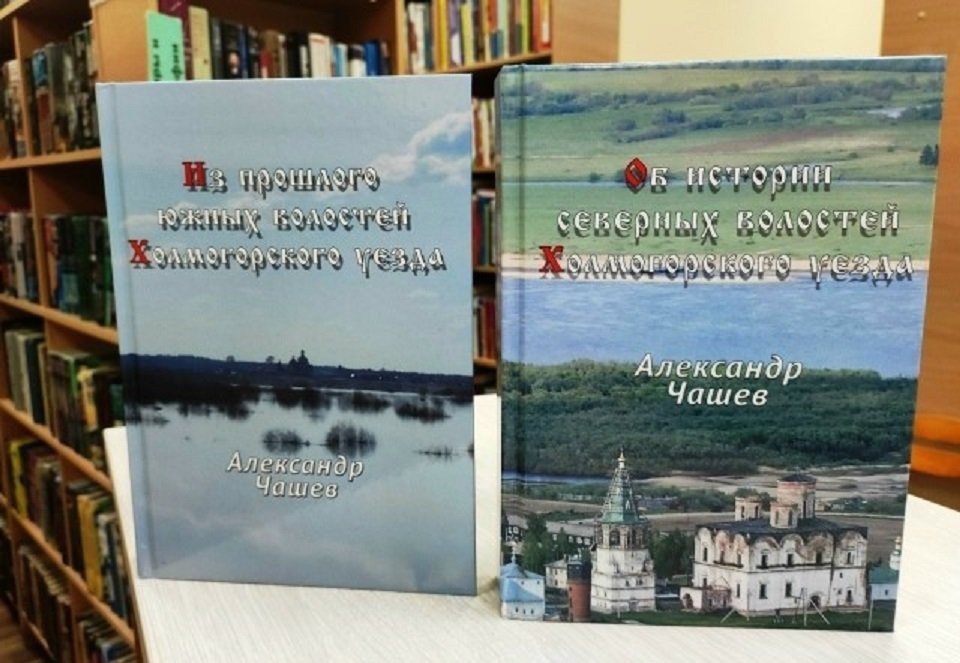Непутёвый поп

Из записок протоиерея Константина С. из города N-ска Архангельской области.
Была у меня прихожанка по имени Антонина. Почему была? Ведь жива она до сей поры. Об этом и сказ.
Антонина начинала свою трудовую деятельность в советские годы бухгалтером в леспромхозе. Через пару лет она так втянулась в общественную работу, что её избрали в своём учреждении освобождённым комсоргом – выборным руководителем первичной комсомольской организации. Комсомол тогда был не просто аббревиатурой, а выступал ярким символом эпохи, образующим целое явление в истории Советского Союза. Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи был призван воспитывать подрастающее поколение в духе коммунистических идеалов.
Он был больше, чем просто организация. Он был школой жизни, быть комсомольцем значило быть в авангарде, быть примером для других. Комсомольцы организовывали субботники, помогали ветеранам, участвовали в строительстве новых городов, осваивали целинные земли, боролись за повышение производительности труда.
Антонина твёрдо верила в дело коммунизма и отдавала ему все силы даже в ущерб самым близким людям – мужу Михаилу Ивановичу и сыну. Она не ограничивалась формальным исполнением обязанностей: взиманием комсомольских сборов и проведением собраний. Вместе со всем комсомолом Антонина боролась с религиозными пережитками, видя в них препятствие на пути построения светлого будущего. Она активно пропагандировала атеизм, приглашая лекторов, выпуская стенгазеты, распространяя книги и журналы, разоблачающие «религиозный обман».
На Рождество и Пасху организовывала концерты в клубе, стараясь отвлечь местных жителей от церковного дурмана. Организовывала комсомольские свадьбы и заменившие крещение в церкви «звездины» новорождённых. Венцом антирелигиозной борьбы Антонины стало исключение из комсомола трёх рабочих за повешенные дома иконы. Всё это должно было сформировать у молодёжи научное мировоззрение, основанное на принципах марксизма-ленинизма.
Тем временем шли годы. Наступила вторая половина восьмидесятых. Комсомольская организация всё больше превращалась в формальную структуру, не способную реально влиять на жизнь молодёжи, которая увлекалась теперь самиздатом, восточными единоборствами, йогой, оккультными учениями, новомодной музыкой. На глазах разворачивался религиозный ренессанс. Лозунги и призывы, вдохновлявшие поколения комсомольцев, утратили свою актуальность. Молодёжь, всё больше ориентировавшаяся на западные ценности и индивидуализм, не находила в комсомоле ответов на свои вопросы и не видела смысла в его существовании.
Но Антонина не унывала, продолжая своё служение. Она всё так же агитировала юношество вступать в ряды комсомола, боролась с новыми веяниями, выбивала комсомольские взносы, дарила полезные, по её мнению, книги, поздравляла членов организации с важными датами, приглашала лекторов из района и даже из областной столицы.
Так она встретила девяносто первый год, принёсший крах комсомола. Вместе с его концом оборвалась и деятельность Антонины. Будучи ещё не старой и активной женщиной, она оказалась на пенсии. Но беда никогда не приходит одна: сын к тому времени вырос, женился и уехал жить в город, а муж регулярно стал выпивать. Она всё чаще стала смотреть на него как на чужого. Оказалось, что за годы семейной жизни они так и не стали по-настоящему родными людьми: все чаяния и надежды Антонины зацикливались на комсомольской работе. В доме не было тепла и любви.
Ей стало страшно жить так дальше – бессмысленно, с опустошённой душой. Надоели пьяные бредни мужа. Она пробовала всё: уговоры, мольбы, угрозы. Но ничего не помогало. Он клялся, что бросит пить, но срывался снова. Она чувствовала, как её жизнь утекает сквозь пальцы, как она теряет себя в этой борьбе. В какой-то момент сил не осталось даже на слёзы.
От бессилия Антонина пошла к местной бабке Варваре, заговаривающей всякую хворь и беду, а также лечившей травами. Бывшему комсоргу было стыдно – она переступала через себя, всю жизнь боровшуюся со всяким мракобесием. Старуха долго что-то шептала, ходила со свечой, а напоследок завернула в газету пучок каких-то трав, с напутствием готовить из них чай мужу. Для верности Варвара посоветовала пойти на кладбище, взяв с собой бутылку водки, и найти там свежую могилу. На ней необходимо было совершить обряд. Так Антонина и сделала: пришла на кладбище, дождалась конца похорон и, когда все разошлись, подошла к свежей могиле.
На кресте она прочитала имя умершей: Авдотья Ильинична Смирнова. Спиртное, как и сказала ведунья, Антонина положила в ноги покойницы и произнесла заговор: «С новосельем тебя, Авдотья, вот тебе от меня и раба Божьего Михаила. Помяни его запой за упокой, чтоб не запивался, а проспался и стал трезвенником…» И добавила в конце: «Ключ. Замок. Язык. Аминь». После чего, не оглядываясь и храня молчание, как велела Варвара, ушла с кладбища. Ведунья сказала, что к тому, кто выпьет эту водку, и перейдёт тяга к спиртному. На последнем этапе обряда следовало посетить ближайший храм и там поставить свечу за упокой того умершего человека, чью могилу использовала для обряда.
Исполнив сказанное Варварой, Антонина стала ждать результата. И он не стал долго мешкать: стало ещё хуже. Муж сделался агрессивным, обозлился на весь свет, а пуще всего на свою супругу. Иногда дело едва не доходило до рукоприкладства, а уж слов, которыми он сыпал на Антонину, она отродясь не слыхивала.
Бывший комсорг совсем растерялась, и отчаяние с новой силой навалилось на неё. В один из пятничных вечеров, когда муж вновь напился, она вглядывалась в своё мутное отражение в окне, за которым шёл дождь. На душе у неё, как и на улице, бушевала непогода. Она чувствовала, что ей просто необходимо за что-то ухватиться. И она решила поехать в город, в церковь. Так точкой опоры внезапно для Антонины явился храм.
Своим убеждениям она не изменяла и в Бога не верила. Просто такие путешествия позволяли ей отдохнуть от душной атмосферы дома. Молиться она не умела. Ставить свечи суеверно боялась, памятуя свой горький опыт с обрядом ведуньи. Об исповеди и причастии понятия не имела. Ей оставалось только ходить в храме по кругу, разглядывая иконы, и слушать непонятное церковное пение.
Однажды Антонина попала на конец литургии, когда священник говорил проповедь, посвящённую надежде и прощению. Слова запали ей в душу: с той минуты что-то перевернулось в ней. Она стала просить Бога своими словами за мужа, а ещё более за себя.
Однажды, когда Антонина ехала в автобусе из города, она решила, что её родному посёлку нужен храм. С этого момента она нашла новое своё призвание, близкое к тому, чему она посвящала себя в комсомольскую свою бытность. Нужно было организовывать людей, доставать лес и другие стройматериалы, вести документацию, собирать пожертвования, следить за рабочими-строителями. Этот труд так увлёк Антонину, что не решившиеся и до сей поры проблемы с мужем отошли на второй план: он как бы исчез из её жизни, став надоедливым, но привычным фоном.
Спустя год работа была завершена – посёлок украсила небольшая церковь с настоящим куполом. Её освятил епископ, который и благословил моему недостоинству окормлять храм хотя бы раз в месяц. Так я и познакомился с Антониной, которая стала моей верной помощницей. Она ежедневно с девяти до семи открывала храм, сидела в лавочке, каждый вечер мыла пол, следила за свечами. В третий свой приезд я крестил её и первый раз причастил. А примерно через полгода она подошла ко мне на исповедь-беседу, из которой я и узнал о её жизни. Так Антонина стала моим духовным чадом.
На каждой исповеди она жаловалась на свою жизнь, особенно на пьющего мужа. Не раз в её рассказах проскальзывала фраза: «Хоть бы он помер, что ли». Она призналась, что неоднократно просила у Бога смерти своему супругу. И напрасно я убеждал её в том, что скорби посылаются нам для спасения, что только горе может растормошить наши очерствевшие сердца, приведя нас к Богу.
«Антонина, ты должна благодарить своего мужа, – говорил я ей, – так как только благодаря ему ты обрела Господа, ни с чем не сравнимое сокровище. А то, что он пьёт, – так нужно молиться за него и просить у Бога и Пречистой Божией Матери терпения, и всё управится. Замужество для женщины есть служение Пресвятой Троице – вот как велико предназначение быть женой». На том и порешили: стала Антонина молиться за мужа.
Спустя месяц Михаил Иванович занемог – заболело сердце. Да так, что он и о водке со страху забыл. Антонина решила, что ему необходимо собороваться и причаститься. В один из воскресных дней я пришёл к ним домой и совершил Таинства. Вскоре больной пошёл на поправку и через несколько месяцев встал на ноги. К спиртному он с той поры не прикасался, занявшись хозяйством: восстановил сараи, возвёл на своём участке второй дом (старый обветшал и требовал ремонта), завёл свиней, куриц-несушек и овец.
Так прошёл год. Меня удивляло, что муж Антонины не приходит в храм, ведь во время исповеди он был таким искренним, хотя и с трудом вытягивал из себя грехи и с усилием подбирал слова. Я вновь решил посетить их и поговорить с Михаилом Ивановичем. Он был рад видеть меня, с гордостью показал свои обновлённые владения и сам накрыл стол для чаепития. Хозяйка же дома, наоборот, проявляла недовольство моим визитом, постоянно осекала разговорчивого супруга и держалась молчаливо.
Когда сели пить чай, я прямо спросил Михаила Ивановича: «Почему вы не приходите в храм? Ведь Господь исцелил вас!» На что он, немного смутившись, ответил: «Дак я это, в Бога-то не верую…» «А как же исповедь и причастие? Вы же приняли Таинства с доверием к Богу! Вы же надеялись, что Он может исцелить вас!» – возмутился я. «Дак в тот момент я думал: давай сюда хоть шамана из Нарьян-Мара, лишь бы отступило», – проговорил Михаил Иванович. «Был здоров, стал больным – это поправимо, ибо с больным есть Христос. А жить без веры – великое несчастье, ибо нет у человека тогда никакой опоры», – сказал я и ушёл восвояси.
В следующее воскресенье ко мне подошла Антонина. Она попросила моего благословения на развод, так как, по её словам, не могла больше жить с таким неверующим мужем.
– Не могу я терпеть его, окаянного. Всю жизнь мне загубил. Сначала пьянки эти. А теперь, кроме скотины своей и телевизора, ничего видеть не хочет. Как так жить?
– Неверующий муж освящается женою верующей, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы…
– Ты сыночка моего сюда не приплетай! Это чем он нечистый? А сил моих так жить больше нет!
– Святой апостол и говорит, что дети ваши святы, освящаясь и вашим браком тоже. Ради сына и его семьи и надо сохранить ваше супружество. Ведь и года ваши немалые. Потерпите ещё. Будем молиться, и Бог всё управит.
– Кончилось моё терпение, батюшка. Благословляй развод. Я буду жить одна, как монахиня. Только дома. И чётки заведу. Ни один день правило пропускать не буду. Только благослови!
Такие наши диалоги повторялись каждый мой визит в посёлок. Наконец я ей сказал поступать как знает: «Будь по-твоему, Антонина…»
Так они с той поры и жили: Михаил Иванович в старом доме, а Антонина перебралась в новый – хоть и маленький, но тёплый. Бывший комсорг не пропускала ни одной службы, причащаясь на каждой литургии. Она даже будто бы расцвела, став более весёлой и приветливой.
Примерно через полгода она опять подошла ко мне с просьбой: «Батюшка, вот ко мне сосед захаживает, положительный такой, вдовый… Я, наверное, замуж напоследок пойду. Сколько уж мне осталось – поживу хоть по-человечески. Благословите!»
Чего тут скажешь, подумал я, памятуя упёртость моей духовной дочери: «Будь по-твоему, Антонина…»
Прошёл ещё год, за который она всё реже стала появляться в храме. А потом и вовсе пропала. Что тут делать? Кто из имеющих сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяносто девять и не пойдёт на поиски пропавшей? Вот и я в поисках своей пропажи отправился к Антонине, по дороге образно представляя себе, как обрящу её и, взяв на плечи, с радостью принесу в дом Отца моего.
Но невесело встретила она меня и вначале совсем вроде как разговаривать со мною не хотела. Наконец, отвернувшись к печи, она выпалила: «Батюшка, этот сосед такой сволочью оказался, хуже прежнего мужа – все ложки из дома пропали. Всё пропил. Одна я теперь. Развелась. А к тебе больше ходить не буду – непутёвый ты, одни беды от твоих благословений. Я теперь на подворье в город езжу. Там монахи – они умные, а ты как есть поп непутёвый». С тем я и ушёл восвояси.
С тех пор не видел я Антонины. Избегает она меня. Как складывается её судьба – Бог весть. Только ежедневно я поминаю её в домашней своей молитве и на литургии всегда вынимаю частицу за неё. Как говорят, пути Промысла Божия хотя и неисповедимы, но всегда ведут нас к добрым последствиям. Вот и я верю, что будет у неё всё хорошо, и когда-нибудь мы ещё свидимся с бывшим комсоргом.
(кадр из к/ф «Длительные свидания»)
Дмитрий Хорин
Главные новости
За кулисами политики
все материалы
ПроКино
все обзоры
Жизнь
Виктор Павленко: Анатолий Ефремов считал Поморье ключевым стратегическим регионом России в Арктике
Кулинарные путешествия
все статьи
Литературная гостиная
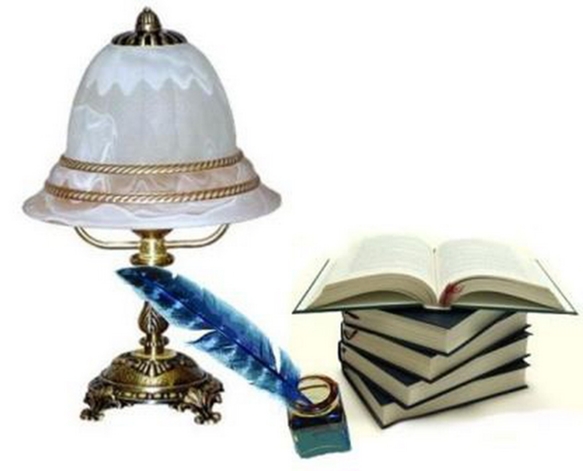 все материалы
все материалы
Архивы
Февраль 2026 (265)Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)

Деньги
все материалы
"Северодвинский торговый центр"
Верую
все статьи
Общество
все материалы
Разное
Золото в каждой капле: почему живое фермерское оливковое масло полезнее и вкуснее магазинных аналогов
Реклама
Дополнительные материалы
Полезное
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20