Afedersin, herr Vitold, или, Прощайте, доктор Шприц! Почти правдивая история о войне
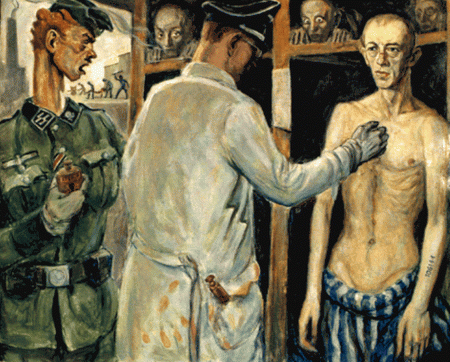
Спасибо МХ (Израиль) за идею рассказа
Виталий Павловича Костромин, невролог Второй городской больницы на пенсии, обычно просыпался в 6 утра. Чтобы там ни было… если даже ночное дежурство, когда ещё работал… он предпочитал просто не ложиться, держался целый день на кофе. Да, вредно, но этот грех компенсировался отсутствием других вредных привычек.
Рано вставать он научился ещё в те времена… которые тщательно, но безуспешно пытался забыть все долгие послевоенные годы. Память уже начинала подводить, но почему-то не в этом вопросе. А, если не получается забыть, то можно постараться не вспоминать. Это у Виталия Павловича неплохо получалось.
Всю свою трудовую жизнь врача невролог Костромин начинал утро с пробежки. Перестал, когда попросили на пенсию. А попросили в 70-т, главврач Ерёмин за несколько лет до непонятной Виталию Павловичу перестройки стал воплощать в жизнь ставший модным только сейчас лозунг: «Все на борьбу с геронтократией». Костромину ещё повезло, специалистов его уровня, да без амбиций, в их областном центре поискать. Сначала поувольняли рыдающих санитарок-пенсионерок, закрыв образовавшиеся дыры в графике дежурств студентками медучилища (главврач был известный любитель… но осторожный, гад, ни разу не попался на адюльтере, плюс имел влюблённую без памяти жену, которая и слышать ничего не хотела). Потом тех, кто без энтузиазма дожил до законных 55/60. И только тогда настала его очередь ветерана Костромина. Со всеми почестями, с общим собранием и банкетом на профсоюзные деньги (провели как культмассовое патриотическое мероприятие), с упоминанием всех заслуг.
На собрании Виталий Павлович рефлекторно внутренне съёжился… но читавшая приветственный адрес начальственная дама из отдела кадров ограничилась «прошёл трудными дорогами войны», без уточнений. Впрочем, у коллектива Второй городской невролог Костромин никогда и не ассоциировался с Днём Победы. Официально он ветеран, даже с ранением, но наград не надевал, они у него только юбилейные. И боевой путь странно короткий… но мало ли таких историй по всей огромной стране.
Пробежку и разминку в парке пенсионер Костромин заменил гимнастическими упражнениями на балконе. И правильно сделал, в морг их больницы через день попадали старички-бодрячки, пытавшиеся убежать от инфаркта… который всегда чуть впереди пожилого физкультурника. Опытный врач всё рассчитал – если сердечный приступ настигнет его на балконе, больше шансов доползти до тумбочки с лекарствами, да и до телефона тоже.
Почему одинокий пенсионер без особых увлечений, скорее мизантроп, чем оптимист, так держится за свою жизнь, он и сам до конца не понимал. Наверное, больше из-за упрямства… столько в жизни пережить, точнее, выжить… такое кино стоит досмотреть до финальных титров.
Жильцы его дома привыкли к утренней фигуре в трениках и олимпийке, в любую погоду приседающую на третьем этаже их купеческого дома дореволюционной постройки. Привыкли, как к гипсовому пионеру во дворе, что отваливается кусками, но особо никому не мешает. Иногда волновались, что балкон возьмёт и рухнет, ЖЭК сколько раз предупреждал, жилец никакого внимания. Просто стали делать полукруг, обходя его внизу по асфальту, самого Палыча, в случае чего, мало бы кто пожалел.
Странный он мужчина. Вроде бы достоин уважения и сочувствия, а нет к нему никаких чувств.
…Молодой невролог Костромин въехал в их дом в середине 50-х на жилплощадь своей жены, тоже врача той же городской больницы. Спокойная, молчаливая женщина, ни с кем особо не дружившая из соседей. Редкий специалист в офтальмологии, что-то такое сделала с глазами жены первого секретаря райкома, что ей в обход всех очередей дали ордер на освободившуюся за смертью жилплощадь.
Ничем не примечательная бездетная пара (соседки судачили – «ну, как же так, а ещё врачи, покопаться сами у себя не могут?!»). С редкими гостями, разве что родители жены иногда наезжали из дальнего загорода, да и то на пару дней. Никогда не одалживающиеся по-соседски ни солью, ни спичками. Ну и к ним за врачебными консультациями почти не обращались. Впрочем, весь дом был непростым, номенклатурным, застёгнутым на все пуговицы, так что особо не выделялись.
Единственное, паспортистка из ЖЭКа кому-то рассказала, что в этой семье муж взял фамилию жены, а не наоборот. Что-нибудь неблагозвучное, типа Синебрюхова или Дуракова? Да нет, что-то нерусское, на -ис заканчивающееся. И что, мало ли причуд может быть у человека, тем более что с русской фамилией по карьерной лестнице в нашей стране всеобщего равенства и интернационализма шагать проще.
Жалость к соседу-неврологу пришла, когда он в одночасье потерял жену. Да как… во время совместного отдыха на курорте, как-то она там не так нырнула. О трагедии знало минимум полгорода, вдовец, ставший ещё более суровый лицом, просто купался в волнах сочувствия. Все хлопоты о прощании и поминках взяла на себя больница, на них Виталий Павлович был в качестве приглашённого, домой никого так и не позвал помянуть. Потом рассказывали, что на кладбище мать утопленницы кричала что-то несуразное в адрес Костромина, что-то о своих предчувствиях… наверное, умом повредилась. Где-то через полгода в городской «Вечёрке» появилась заметка, что в дачном посёлке таком-то чета пенсионеров Костроминых сгорела во время пожара. Дом прочитал, поохал и понимающе покивал… убитая горем мать вполне могла поджечь. Ведь вскоре после похорон дочери по дому прошёлся молодой следователь в штатском. Поспрашивал то-сё про вдовца Костромина, и, не получив никакого компромата, зло сплюнул – «напишут заявление всякие полоумные, а ты проверяй…».
А дальше страшнее. Года через три у Костромина появилась новая пассия. Сначала просто ходила. Потом переехала. Тоже спокойная и молчаливая, чуть ли не продолжение погибшей жены. Что никого не удивило, ведь многие мужчины по жизни ищут один придуманный им самими образец. Через год… пропала. Костромин на это написал заявление, указав, что вместе с пассией у него пропали деньги. Не очень большие, но для рядового врача вполне ощутимые, да и новую жизнь на новом месте на них начать вполне можно. Опять ходил следователь, задавал всё те же вопросы, в частности, о моральном облике Костромина. Ничего нового.
Это случилось в начале 60-х. После соседи изредка замечали, как бирюк Костромин в сумерках ведёт барышню к своему подъезду. Не часто, раз в пару месяцев. И обязательно за полночь отправлял домой на такси. Особо глазастые высмотрели, что фигуры всё время разные, неповторяющиеся… ну, да это личное дело любого взрослого человека. Ведь не насильник, на такси провожает.
Ближе к 80-ым и этот поток иссяк. Костромин стал совсем не интересен соседям… к его же явному облегчению. Пусть ходят мимо, не то недолго на голову гантелю уронить.
После обязательной утренней разминки (слово «зарядка» резало ему даже не слух, а мозг), пенсионер Костромин шёл с книжкой (коих в его квартире было от пола до потолка) в парк. Потом к обеду прогулочным шагом поближе к центру, ресторан или кафе. Никаких комплексов, только блюда основного меню, но не из самых дорогих. Заведения общепита старался чередовать. Во-первых, чтобы не приелись. Во-вторых, чтобы самому не примелькаться. Впрочем, любая интересующаяся сторона легко могла подсчитать, что экономный Костромин за годы врачебной практики, пусть и в государственном учреждении, вполне мог скопить нужную сумму на тихие пенсионерские радости. А то, что не все деньги на сберкнижке держит… так нет такой статьи в Уголовном Кодексе.
Вечер… вечер был самым сложным временем суток в жизни отставного невролога. Его нужно было просто пережить.
Но описываемый здесь день был для пенсионера Костромина особым. Никогда не обращавшийся к своим бывшим коллегам за помощью, по крайней мере, старающийся этого не делать, сегодня он шёл на приём в свою больницу к израильскому врачу-неврологу.
Приехавший на днях в их областной центр Борух Зигмантович был первой ласточкой перестройки и нового мышления, когда неожиданно выяснилось, что Израиль для СССР не такой уж враг и агрессор. Начались первые позитивные репортажи оттуда… советские телезрители впали в настоящий шок, увидев картинку из Тель-Авива с 9 мая – по набережной шли люди, увешанные боевыми наградами Великой Отечественной. Наконец-то уехавшие перестали быть для оставшихся пропавшими без вести, страна победившего социализма стала щедро выдавать своим идеологическим противника въездные визы.
Чем и не преминул воспользоваться главврач Ерёмин. Сам до прапрадедушек русский, у него в Израиле жил друг юности, сокурсник по московскому медицинскому, в те годы Борис Зигмантович. Комната в студенческой общаге для двух орлов с периферии, чем-то похожих внешне и по стилю поведения – где они, там девушки и смех - только один светлой, другой тёмной масти. На тех шести квадратных метрах остались лучшие годы жизни.
Фестивалили друзья вместе, но Ерёмин, знавший себе цену – мальчик из многодетной, сильно пьющей семьи с детства дал себе слово выбиться в люди и выполнил – чувствовал себя на голову ниже Боруха. Если он, школьником, боролся с жизненными обстоятельствами и не просыхающей роднёй, убожеством жизни в рабочих бараках пролетарской окраины города, то его товарищ в те же свои годы попал в самые жернова мировой истории. Да какие там жернова… Боря прошёл через настоящий ад немецкого концлагеря, где над ним ставили какие-то медицинские эксперименты. Спастись помогли атаковавшие Литву советские войска, в специальном «лечебном» бараке он провёл всего две недели.
«Всего»… мальчик был в таком состоянии, что его в санитарном эшелоне отправили в Москву, к светилам. Которые спасли ему жизнь, но не смогли вывести всю гадость из организма, которую туда вводил злой гений их концлагеря по прозвищу «Доктор Шприц». Уже на последнем курсе худой от рождения Боря стал неконтролируемо набирать вес. Ему сначала это даже шло… пусть и пробило брешь в скудном бюджете студента, куда новые брюки никак не хотели вписываться. Ну да ничего, теперь друзья начинали новые романтические отношения с вопроса – «швейная машинка есть, педаль крутить умеешь?».
Впрочем, они учились в непростом институте. На вдруг раздобревшего студента Зигмантовича обратили внимание преподаватели соответствующего профиля и быстро определили, что эта полнота не от хорошей жизни, а как раз от плохой. У Бориса снова начались мытарства по больницам… там и диплом писал. Увы, светила московской медицины опять разводили руками, установить, какими препаратами и с какой целью пичкал Доктор Шприц своих подопытных кроликов не представлялось возможным – этот нацистский преступник, чьё имя упоминалось в ходе Нюренбергского процесс, значился в списках обвиняемых, чьё местонахождение не установлено. Возможно, шхерится где-то в джунглях Южной Америки, об этом много разговоров ходило. Но, скорее всего, его труп валяется в яме, куда сбрасывали убитых охранников их концлагеря. А убили почти всех… после того, что увидели советские солдаты в освобождённом ими концлагере, по-другому просто не могло быть.
Один был плюс во всей этой неприятной истории – выпускник Борис Зигмантович был распределён в Москву, хотя студентам без столичного жилья и московских родственников это не светило в принципе. А почти красный диплом и истовый огонь исследователя в глазах обеспечил ему место в Институте неврологии. Боря сам себя называл лучшей темой для диссертации, и профессора-наставники немели от этой его шутки.
Ерёмин же распределился в родной город, куда совсем не мечтал возвращаться. С семьёй отказался жить сразу… противно было… он единственный из детей выбрал себе другую дорогу. Пару лет ночевал при больнице… иногда на пустующих койках в палатах. Потом для местных медиков построили семейное общежитие, а уже начальнику хирургического отделения больницы Ерёмину Н.В. ордер в новостройку вручил горисполком. А там и до места главврача было недалеко, в медицине карьерный лифт часто работает с повышенной скоростью.
С Борисом связи не терял. Переписывались постоянно, всегда было, что вспомнить, что обсудить по профессии. Ну и в Москве, на встречах курса. Каждый раз, расставаясь с Зигмантовичем на вокзале или аэропорту, Ерёмин понимал, что ближе друга у него в жизни нет и вряд ли будет. Он даже не удивился, узнав, что его друг, кандидат наук, корпящий над докторской, вдруг бросает науку, сдаёт государству московскую квартиру (своей семьи так и не завёл, считал себя не вправе связывать человека своими болячками, в которых сам до конца не разобрался) и перебирается в город своего трагического детства, Вильнюс, на должность рядового невролога районной поликлиники, при всей видимой лёгкости своего характера Борух ничего не делал просто так. Московские коллеги за его спиной крутили пальцем у виска – видать, эксперименты нацистов стали действовать. Всё прояснилось буквально через год… из Республик Прибалтики проще было эмигрировать.
Ерёмин болезненно встретил весть о репатриации друга на историческую родину. Разрешение на выезд дали на редкость быстро даже для Литвы, органы вошли в положение маленького узника нацизма, врача, чей вес уже превысил полтора центнера. Про израильскую медицину уже тогда ходили легенды… где лечиться, если не там?!
Всё это понимал главврач Ерёмин. Только принять не мог – в те годы эмигрант почти покойник для остающихся. Письма… и те через одно доходили.
Полегче стало с середины 80-х, смогли даже фотографиями обменяться. Чудо почти произошло, вес Боруха (для еврейского уха такое имя привычней Бориса) перестал расти, стабилизировался на 160-ти. Неудобно для жизни, вредно для остальных органов… но хоть так. За прошедшие с отъезда годы репатриант Зигмантович сделал себе имя в израильской неврологии, плюс как хобби открыл частную клинику похудания.
И вот настал момент, когда стало можно съездить с исторической на малую родину, не быть арестованным и вернуться обратно. Как же стало приятно Ерёмину, когда друг именно его попросил сделать приглашение. «А что мне в Москве делать, - писал в письме Борух, - все наши девочки уже бабушки. Да и с друзьями там как-то не сложилось, а испытывать на себе зависть бывших коллег… я представляю, насколько их доходы отличаются от моих… сомнительное удовольствие. Ну, а в твоём городе меня знаешь только ты… ты же не будешь завидовать, правда, Ерёма?».
Ещё главврачу Ерёмину было приятно, что друг-светило сам предложил проконсультировать особо сложные неврологических случаи их больницы. Совсем бесплатно, из куража. Прежде всего, конечно, среди коллег-медиков и ветеранов войны, тут даже объяснять не надо.
Виталий Павловичу Костромин подходил сразу по двум пунктам. Вся больница знала о его болях в левом плече, которые он сам объяснял последствиями военной контузии. Приступы возникали периодически, с возрастом всё чаще. Когда практиковал, ухитрялся не брать больничные, полагаясь на опыт и талант диагноста, за что и ценили. Перебивался обезболивающими, которых требовалось всё больше и сильнее, а достать всё труднее даже для профессионального медика. Тоже самое и на пенсии, это единственное, что могло помешать утренней разминке, да и то только активности упражнений.
Невролог в отставке знал, что его проблема неизлечима… ну, а вдруг? Смущало его и происхождение заезжего светилы, но тут уж он сам себе приказал поумерить эмоции.
Назначено Костромину было на 12. Перед приёмом заглянул в кабинет к главному, так сказать, засвидетельствовать почтение. Ерёмин в этот момент подписывал что-то важное, но всё-таки оторвался от бумаг, пожелал бывшему подчинённому успехов и почему-то заговорщицки подмигну. Виталий Павлович всегда держал его за недалёкого чудака…
Ровно в полдень кабинет, выделенный под приём заезжей знаменитости, гостеприимно распахнул свои двери перед очередным пациентом. В этот момент в груди у Костромина как будто щёлкнул тумблер, предупреждающий о близкой опасности. Поздно, что может быть глупее для пожилого человека, чем бежать от встречи с коллегой… ещё сочтут городским сумасшедшим.
В кабинете за столом сидел грузный еврей. Даже ненормально толстый для своего не самого высокого роста. Отличный костюм, невиданные в Союзе наручные часы, ботинки из разряда «супершик», средиземноморский загар посреди холодного в том году апреля… полный набор, изобличающий иностранца. Причём не из соцлагеря, а из самой чащи капиталистических джунглей. В расплывшихся от нездоровой полноты чертах лица израильского невролога мелькнуло что-то далёкое, знакомое Костромину… но так и не пробилось через десятилетия.
Приезжий врач привстал, учтиво поклонился вошедшему (правда, руки не подал, что принято между даже незнакомыми коллегами, Костромин это понял, как западные веяния гигиены), предложил присесть. Листанув историю болезни, поднялся, подошёл к медсестре, присутствовавшей на приёме, что прошептал в розовое ушко. Девушка прыснула смехом, посмотрела на израильтянина абсолютно влюблёнными глазами (за проведённые полчаса в родной больнице, приветствуя бывших коллег, Костромин минимум три раза слышал от особ противоположного пола, какой «этот заграничный друг главного душка, несмотря на объём талии»), и удалилась, призывно вращая аппетитным задом. Врач галантно проводил её к выходу, неожиданно резко запер дверь на ключ и вернулся к столу. Они опять оказались в позиции врач-пациент… или следователь-подозреваемый.
- Ну, здравствуйте, герр Витольд… вы же так заставляли нас к себе обращаться. А мы вас за глаза Доктор Шприц, не иначе. А вы нас всех только «эй».
Пациент как будто окаменел лицом.
- И правильно, - удовлетворённо сказал изральтянин, - дёргаться вам нет никакого смысла. Вы, конечно, неплохо сохранились для своих лет, вам же по-настоящему под 90, не правда ли? Однако признак породы, как говорят русские – «малая собачка до старости щенок». Это вас и подвело – когда Ерёма прислал групповую фотографию коллектива своей больницы… вы тогда какой-то юбилей отмечали… меня будто током ударило – нашёлся, гад! Попросил рассказать, кто там занимается неврологией, всё-таки, коллега. Узнав, что вы выдаёте себя за ветерана… вот же циничная мразь… осторожно выяснил про приметы войны. И когда прочитал об отсутствии фаланги мизинца на левой руке, все сомнения отпали - Шприц, точно. Вы же ту фалангу ещё до войны потеряли, что-то из детства, не правда ли? Ну, и как вам жилось все эти годы с таким грузом? Только детей… только детей на ваши гнусные опыты было израсходовано… я помню эту вашу формулировку, вы её несколько раз повторили при приезде научной комиссии из рейха… более трёхсот. А женщин, которых вы держали в лазарете для утех ваших дружков из городского гестапо, вы их периодически обновляли через крематорий…
Тут бровь каменного пенсионера непроизвольно дёрнулась.
-…нет-нет, лишнего вешать не буду, вам бы своё с собой унести. Вы-то сами брезгливы, истинный доктор-ариец, - тут еврейский доктор выдал такую витиеватую формулу русского мата, что сам удивился, в каких глубинах его подсознания она пряталась до сих пор, - сексуально пользовали чистеньких городских фрау максимум из фольксдойч. Но даже в советских тюрьмах сутенеры живут в тех же петушиных углах, что и насильники. Вас бы туда… лет сорок назад. Сейчас уже поздно… кому такая старая жопа нужна.
В этот момент Борух Зигмантович встал со стула, как бы разминаясь прошёлся к окну, оттуда за спину сидящему… неожиданно сильно прижал старика к столу и выдавил ему в шею, полный шприц непонятной субстанции. ОТ которой немного запекло… но терпимо
- Ну вот и всё, герр Витольд, я привёл в исполнение приговор Нюренберга. Бежать и жаловаться бесполезно, в Союзе нет от него противоядия. Рассосётся через 12 часов, как раз к полуночи, тут и каюк – паралич сердца. А если бы и было противоядие, вам-то какой смысл? Заслуженный человек вашего возраста проходит по статье, по которой нет срока давности. Громкий процесс, года на два растянется. И всё это время… сколько у вас его осталось?.. в тюремной камере. Хорошо, если в одиночной, а если в общей, с уголовниками? У областного КГБ своего СИЗО нет, я специально выяснял. Трахать вас, конечно, никто не будет, не тот персик, но жить под нарами и есть на параше… это я вам гарантирую. Ну, выбирайте. Приём окончен!
И уже открывая дверь:
- Придётся сказать Ерёме, что обознался… принял вас за знакомого, с кем когда-то отдыхал на юге. Должен же я был объяснить другу свой интерес к вашей непримечательной персоне. Всё, пошёл, жить остались чуть больше 11 часов.
Уже в коридоре Костромин столкнулся с возвращающейся медсестрой. «Как же он всё рассчитал… вот хитрый jude». – привычно вспыхнула в мозгу арийца расовая ненависть.
Домой из больницы шёл пешком, всего пара остановок. Машинально смотрел на часы… время-то обеденное и ресторан рядом… но сам себе удивился – зачем теперь?
Дома заварил кофе, что позволял делать не чаще пары раз в год. Не из экономии, здоровья ради.
Говорят, за пару секунд до смерти у человека перед глазами проносится вся прожитая жизнь. У Виталия Павловича Костромина было в запасе гораздо больше времени…
…Витольд фон Шулле появился в браке немецкого барона и русской графини не очень громкой фамилии. Семья жила на два дома – один в Вильно, другой в Санкт-Петербурге. Революция 17-го года застала их в первом. Что, наверное, спасло жизнь, но лишило половину состояния, глава семейства предусмотрительно держал активы в банках двух стран… и ещё немного резерва в фаттерлянде.
Прав прозорливый еврей Зигмантович, Витольд на несколько лет старше Октябрьского переворота. Который лишил его мать не только родины, но и родни, сгинувшей без следа в революционных бурях. Витольд был уже достаточно взрослым, чтобы запомнить, как в начале 20-х в их дом пришёл знакомый, чудом спасшийся из взбесившегося Петрограда. Наверное, не очень умный был человек, не щадя сердце его матери, он рассказал, как пьяная матросня гоняла по набережной Невы выстрелами из наганов её сестру, как та в отчаянии кинулась в студёную ноябрьскую воду, пару раз показалась на поверхности и пропала. Как её отца, дедушку Витольда, зарезали прямо у парадного за бобровый воротник. Как её мать, бабушку Витольда, выводили из дома под руки санитары, а она безостановочно орала что-то непотребное. Как из окна их барской квартиры, немедленно кем-то занятой, кто-то вывесил на рояльной струне домашнюю кошечку, любимицу семьи и маленького Витольда тоже.
Мамочка Витольда и до этого не была крепка ни здоровьем, ни нервами. А уж после того визита вообще стала угасать. Что-то неврологическое… припадки, судороги… точный диагноз никто так и не поставил.
- Совсем молоденькую хороните? – с сочувствием спрашивали посетители лютеранского кладбища в Вильно, и не верили своим глазам, прочитав надпись на кресте – отошла в лучший мир женщина за 40. Сын лицом пошёл в её породу.
За поминальным столом на сороковинах подросток Витольд серьёзно сказал отцу, что решил посвятить жизнь медицине. Фон Шулле, имевший на тот момент деловые связи по всей Европе, солидно кивнул головой. Дальше в жизни молодого барона был медицинский факультет в одном из лучших университетов Германии. По окончании, работа в престижных клиниках и предложение полностью переключиться на исследовательскую работу. Чего он, собственно, и добивался. Практике врача мешала опять же внешность, в первые минуты пациенты начинали возмущаться, почему им подсунули какого-то мальчика в белом халате.
Приход к власти национал-социалистов Витольд фон Шулле воспринял с воодушевлением. Не то, чтобы он был большим сторонником расовой теории, хотя и принимал некоторые её постулаты. Скорее, сработала природная интуиция – врач-невролог спинным мозгом почувствовал, что дальше с объектами медицинских экспериментов не будет никаких проблем. Поэтому и вступил в НСДАП, приняв, кроме партийной присяги, ещё и военную.
В начале 40-х военный медик фон Шулле, только-только схоронивший отца в фамильном склепе на одном из берлинских кладбищ, был направлен для дальнейшего прохождения службы в город своего детства Вильно. Наладил неврологическую службу местного госпиталя, завёл сразу несколько амурных связей (с особенностями его внешности в первые годы молодости это было не так просто)… и тут поступило предложение, которое он подспудно ждал с момента начала войны – возглавить медицинскую службу в концентрационном лагере недалеко от столицы Литвы. Практик по жизни, Витольд не строил никаких иллюзий и не искал себе оправданий, такая служба даст ему неограниченные и никем не контролируемые возможности для экспериментов, ресурс подопытных практически неиссякаем. Ведь Вильнюс до войны считался «Литовским Иерусалимом»… очень подходящее место для «окончательного решения еврейского вопроса». Где-то в прошлом маячила благородная цель – разобраться в причинах смерти драгоценной мамочки, но он о ней почти не вспоминал, впереди была чистая наука.
Герр Витольд… или Доктор Шприц… слыл среди заключённых лагеря настоящим исчадием ада. Всегда в накрахмаленном белом халате, вежливо просивший заголить то место, куда будет делаться укол… после них первые пару лет экспериментов редко кто выживал больше недели, а умирали в ужасных мучениях. В бараках говорили – «если от «душегубки» можно спрятаться, затаиться, то от шприца нет». То, что со временем кролики Витольда стали жить дольше, иногда до трёх месяцев, только продлевало мучения приговорённых.
При этом сам фон Шулле считал себя вполне приличным человеком, двигающим вперёд мировую науку. Он никогда не принимал участие в сексуальных забавах (групповых изнасилованиях с элементами садизма) офицеров лагерной охраны. Наоборот, лучших их девушек он клал себе в лазарет, считая, что таким благородным образом он дают им шанс пожить подольше. Сам же в процессе литовской личной жизни из всех прелестниц остановился на одной – чудесной Хельге, работавшей в картотеке Вильнюсского немецкого госпиталя. Серьёзно собирался начать с ней жить по-семейному, однако не хотел приводить молодую жену в лагерную грязь, от которой не спрятаться и за десятью мотками колючей проволоки. Или сам ездил на свидания в город, или она к нему… её родовой хутор по удачному стечению обстоятельств находился буквально в двух километрах от лагеря. Да и сам концлагерь, вы не подумайте, совсем не Бухенвальд, нацелен в основном на работу с местным материалом.
Увы, был за Витольдом один грешок. У попавших к нему в обработку заключённых он отбирал ценности, которые те ухитрились спрятать при аресте и по прибытию. Немного, за все годы полмешка колец-брошек-серёг всего и скопилось. И не от жадности… покойный отец во время учёбы сына в университете прогорел на бирже, продал всю имевшуюся у семьи недвижимость, только-только расплатился с кредиторами… и студенту фон Шулле пару лет до окончания пришлось довольно-таки солоно. Зато бесценный опыт – если есть возможности, скреби на постный день. Вот он и старался.
Но основная страсть – наука. Он так был ей увлечён, что с удивлением узнал – война его страной проиграна, советские войска всё ближе к Прибалтике.
И тут в жизни фон Шулле наступила череда удачных совпадений. В самом начале осени 44-го он где-то ухитрился подхватить воспаление лёгких. Прекрасно представляя, как и чем лечиться, он, перед тем, как впасть в беспамятство, вызвонил свою Хельгу, чтобы брала отпуск, перевезла его на свой хутор и там выхаживала, всё-таки у девушки диплом медсестры. А всего через несколько дней советские самолёты бомбили концлагерь, после чего по всей его небольшой территории зияли воронки с неопознанными трупами (позже командование призналось, что воздушные разведчики перепутали концлагерь с немецкой секретной частью… но кто считает). Ещё через несколько дней в лагерь вошли советские солдаты и, ужаснувшись увиденным, гонялись и убивали всех, кто носил немецкую форму.
Всё это время Витольд фон Шулле провёл в бреду под руками заботливой Хельги, а, придя в себя, приготовился выживать всеми возможными способами.
К тому моменту его ангелу-хранителю пришлось вернуться в Вильно, предварительно спрятав любимого на сеновале и обеспечив пропитанием. Которого хватило буквально впритык… только через полтора месяца на хутор вернулась совслужащая Хельга, её немецкий госпиталь сам собой преобразовался в советский. Хорошо, что в пылу становления новых порядков никто особо не проверял старый персонал на лояльность и контакты с немцами… тем более тех, кто занимается бумажной работой.
Всего два с половиной года провёл бывший концлагерный врач в добровольном своём заточении на хуторе, передвигаясь исключительно ночью по маршруту дом-сеновал (удобное расположение на отшибе, родители Хельги утонули в самом начале Большой войны). Он с удивлением ловил себя на мысли, что совсем не тяготится одиночеством, что голова занята медицинскими проблемами – мозг систематизирует результаты поставленных опытов и раскладывает по полочкам.
Но интуиция… интуиция подсказывала неврологу, что всё может закончится в любую минуту. Что всё? Жизнь, конечно, которая ему нравилась сама по себе, несмотря на все нюансы необратимого исторического процесса.
Витольд с детства приучил себя думать наперёд, просчитывать ходы, к чему подвигли неудачи его отца в бизнесе. Только узнав, что в госпиталь Хельги стали поступать раненые красноармейцы, и именно она выписывает им или справки о ранении или похоронки, он дал ей подробную инструкцию, какому из погибших от ран он лично поможет воскреснуть в другом образе.
Год ждал, если не больше, подруга всё таскала и таскала ему истории болезни. Санинструктор Виталий Павлович Ионайтис подошёл сразу по нескольким пунктам. И возрастом (плюс-минус десять лет с особенностями породы молодого фон Шулле никакой разницы не играли), и местом рождения (herr Vitold, знавший с детства русский, как второй родной, изредка допускал ошибки в произношении), и воинской специальностью, и полным отсутствием какой-либо родни. Но, главное, именем-отчеством, Виталий - это почти Vitold, а покойного фон Шулле звали Пауль. Затворник хутора решил, что это указующий перст судьбы. В итоге в документах проникающее ранение брюшной полости превратилось в контузию средней тяжести, поменялась и фотография в книжке красноармейца. Подправлены были и годы службы, получалось, что Ионайтис повоевал совсем ничего, в первом же бою попав под бомбёжку. Пришлось, правда, отдать колечко… но не из самых дорогих, среди махинаторов Вильно и при советской власти была жёсткая конкуренция в борьбе за клиентов.
Документы ждали своего часа в сухом схроне на хуторе. Час наступил, когда Хельга с дрожью в голосе рассказала, что в их госпитале выделили отдельный кабинет офицеру СМЕРШа. Который по одному вызывает сотрудников, работавших при немцах, и двое уже куда-то исчезли.
Фон Шулле решил не испытывать судьбу. Милая Хельга тем же вечером очень неудачно спрыгнула с сеновала… прямо на вилы, опять же неудачно стоявшие вверх зубьями (её только совсем чуть-чуть подтолкнули сзади). Заветный мешочек с ювелиркой лежал вместе с документами (милая Хельга отличалась патологической честностью). Продуктовое НЗ с малопортящимися продуктами они всегда держали наготове, периодически обновляя. Форма красноармейца… разве что не с плеча самого Ионайтиса… заштопана и доведена до состояния, не вызывающего в те года подозрение у посторонних.
Через пару месяцев в одном из пригородов героя-Ленинграда тихо и малозаметно появился демобилизованный солдат Ионайтис, таких тогда полным-полно искали себе место в огромном СССР. Нашёл комнатушку, устроился на работу (отдавал зарплату, да ещё чуть-чуть приплачивал сверху). Минимум два раза в неделю ездил в центр большого города, отирался на рынках, искал выходы на шпану и деловых. Всё не спеша, не вызывая подозрений, ища лучший вариант и проверяя.
Нашёл петербуржский дом своего детства, превращённый в одну большую коммуналку, походил-посмотрел… и воспылал ещё большей ненавистью ко всему вокруг.
В итоге Ионайтис В.П. стал выпускников лечебного факультета небольшого медвуза. Преимущество было именно в том, что здание в 42-м попало под бомбёжку, весь архив и картотека сгинули в огне пожара. Виталий в свои законные отпуска даже съездил туда пару раз, узнал имена профессоров и самых известных, громких студентов, расположение кафедр, анатомички и общаги, а также знаковые события, случившиеся там в период конца тридцатых - начало сороковых годов, о которых просто обязан был знать любой выпускник.
И только после такой подготовки молодой невролог Ионайтис появился в одном из областных центров РСФСР, транспортно-неудобно расположенном и к Прибалтике, и к Ленинграду, и к городу с разбомблённым медвузом. Всё с расчётом на то, чтобы снизить риск появления сокурсника или соседа по детству до минимума. Плюс надежда на собственную везучесть, которая пока его ни разу не подводила.
По большому счёту, подвела она его всего один раз… если не считать сегодняшнего появления этого чёртового еврея.
Женился невролог Ионайтис не по любви, не по расчёту и даже не от одиночества. Чтобы быть, как все, этой цели фон Шулле посвятил всю свою послевоенную жизнь. Понимая, что может проколоться на ерунде, он взял фамилию жены, лишь бы уничтожить следы Ионайтиса (и действительно, коллеги как-то быстро привыкли к неврологу Костромину). Ну, а семья медиков… что может быть понятней и привычней для советского общества?
«Как они похожи» - умилялся персонал Второй городской больницы. Маргарита Костромина была под стать мужу – такой же спокойной, основательной и немногословной. До него никаких служебных романов, никого компромата… а те двое, что были у неё в студенчестве, никому не интересны. Только муж знал, где собака порылась – Рита по женской природе своей была фригидна, как то ленинское бревно с субботника. Именно это качество (или недостаток?) отразилось на всей её натуре.
Постельная (и не только) холодность супруги Виталия совсем не тяготила, к сексу он относился с прагматизмом человека, совершающего некую гигиеническую процедуру. Тем более, в его привычки входила поездка в Ленинград, где он позволял себе оттянуться. Не чаще одного раза в год, но впечатлений ему хватало.
Собственно, ездил он в город на Неве не за амурными похождениями, лишь совмещал приятное с полезным. Там, в пригороде, где провёл пару послевоенных лет, он прятал мешок с концлагерными побрякушками. Каждый раз брал понемногу, чтобы чуть-чуть скрасить жизнь рядового советского врача. Сдавал всегда перекупщикам, их не напрягали его редкие появления, думали – у себя в городе мужик подворовывает или барыжит, к нам приезжает реализовывать. Жена знала, что муж возвращается из этих вояжей с некой суммой… но вопросов не задавала. Виталий вообще считал, что она думает – «опять к любовнице поехал», не в её темпераменте устраивать разборки. Его такая ситуация вполне устраивала.
Но советским супругам, тем более, коллегам, принято вместе ездить отдыхать к морю. Это и подвело.
Неприятная встреча произошла в Сочи. Прямо посреди курортного города… нестарая женщина с полуседыми волосами подошла к Костромину, вгляделась… и забилась в припадке. Из речевой сумятицы, вылетавшей из перекошенного судорогой рта, можно было разобрать «… Витольд… доктор Шприц… не хочу укол…не хочу в крематорий… вяжите его…». Мужчина, сопровождавший её, скорее всего, муж, пытался помочь, нежно сжимал в объятиях, и ещё объяснял прохожим – «она больна, прошла концлагерь… сейчас пройдёт… не обращайте внимания, мы уже завтра уезжаем».
Никто и не обратил, кроме… Впервые за все годы выдержка и расчёт изменили бывшему нацистскому доктору – он не бросился помогать больной, как сделал любой бы врач, но встал, взял за руку жену и деревянной походкой повёл её на набережную есть мороженое.
Рита начала задавать вопросы на второй день, когда Виталию стало ясно, что пока никто не собирается его арестовывать.
Вдруг спросила, где он воевал, хотя больше, чем написано в военном билете мужа (признан ограниченно годным к военной службе из-за последствий контузии), её никогда не интересовало. Потом стала выяснять, когда начались эти последствия (Ионайтис-Костромин за столько лет так привык изредка симулировать приступы неврологических болей, что они действительно стали его беспокоить), а это в принципе не должно интересовать окулиста. А дальше прямо в лоб:
- Где ты берёшь в Ленинграде деньги?
Именно где, а не у кого.
Костромин уже и не помнил, что ответил тогда. Только яростно зачесалась фаланга мизинца, которую ему отрезали ещё в отрочестве из-за панариция. Ещё одна его лагерная кличка – «Полпальчика», впрочем, редко употреблявшаяся и в основном офицерами лагерной охраны. Зато чёткий сигнал опасности, это он знал по жизни.
Как знал и то, что жена его, несмотря на спокойствие натуры, женщина умная, умеющая сопоставлять не только медицинские факты, что часто помогало ей не только в работе, но и вообще в жизненные обстоятельства. Наверное, к решению этой проблемы он был готов давно… даже не осознавая. Уже через день они поехали купаться и загорать в дальнюю бухту, Маргарита Костромина, как многие женщины её психологического типа, стеснялась публично обнажаться на общественных пляжах. А там… неудачный нырок с камня прямо на камень, скрытый под водой, перелом шейных позвонков… вы не поверите, сколько подобных трагедий случается ежегодно на наших курортах.
И то, специально покупать вилы в «Хозтоварах» города Сочи выглядело бы, по меньшей мере, странно.
Домой невролог Костромин вернулся с гробом и чёрным от горя. Как же ему сочувствовал весь больничный коллектив…
Но только не собственная тёща. И так-то их отношения были более чем прохладные, женщине совсем не нравилось, что её «снежная королева»-дочь выбрала себе под стать бирюка-«снеговика». На похоронах совсем разошлась – «с ним что-то не так… я всегда чувствовала… проверьте его», убитый горем отец Риты увёз её прямо с поминок.
А потом появился тот мужчина в сером костюме, опрашивающий соседей. Спалить загородный дом пенсионеров Костроминых так, чтобы никто из него не выбрался, было делом нехитрым. И всё-таки работа не для врача его квалификации…
Потом было два года траура. Точнее, Виталий Павлович на этот период прекратил амурные похождения в своё городе, где его, как говорится, каждая собака… Зато стал чаще ездить в любезный его сердцу Ленинград, в городе трёх революций даже в пуританское советское время имелись места, где можно было снять тёлку. И совсем недорого… заветный мешочек позволял. Педантичный фон Шулле на досуге даже подсчитал, сколько ему потребно продавать побрякушек в год, чтобы хватило до 90 лет, именно столько он рассчитывал прожить. Вполне, вполне хватало…
А потом в его жизни появилась Стася. Не больничная, случайно познакомились на прогулке в парке. Даже не появилась… прибилось одиночество к одиночеству. Белорусская девочка, потерявшая в оккупацию семью и покинувшая родные края по невозможности жить среди страшных воспоминаний. Закончила на чужбине педагогический и с дипломом учителя сразу по нескольким предметам стала переезжать внутри большого Советского Союза в поисках… получалось так, что Виталия Павловича. До него с мужчинами у неё получалось плохо, отталкивала своей вечной печалью, молчаливостью и внутренней неустроенностью. А ему она напомнила Хельгу, тоже дочь лесов.
Всё рухнуло в одну ночь, когда Стася разбудила его со страшными глазами – «Почему ты говоришь по-немецки?!». Моментально проснувшись, бывшему фон Шулле хватило артистического таланта сыграть сонного, безвинно разбуженного человека.
- Девочка, ты забыла, в каком городе я провёл детство. Слева соседи – немцы, справа – поляки… разве что евреев в нашем дворе не было, хотя и идиш чуть-чуть понимаю.
Стася только мотала головой.
- У меня второй диплом учительницы немецкого, просто я этот язык ненавижу. Выучила его от офицеров, которые встали на постой в нашей избе… они потом маму с сестрой… И не просто ты говорил, ты командовал… ОТКУДА?!
Этот случай невролог Костромин никак не мог считать невезением. Сам виноват, расслабился… людям свойственно с возрастом терять самоконтроль, тем более ночью.
Зато урок. С тех пор он никогда и никого не оставлял у себя ночевать, и сам после акта не давал себе заснуть. А когда пришёл срок, и женщины перестали быть ему нужны самым естественным образом, даже вздохнул с облегчением – как будто вылечился от хронического насморка.
(Стасю Костромин выносил из квартиры по частям, прятал так, чтобы никаких случайных находок. Позже пришлось в милиции разыгрывать из себя обиженного и обворованного… очень неприятно. Потом задумался – уж не в маньяка ли я превращаюсь… пока пилил, внутри ничего не дрогнуло. Да вроде нет…).
Вот, собственно, и вся жизнь, остальное череда серых будней. В том, что дни его сочтены, бывший концлагерный Доктор Шприц не сомневался ни секунды. Какими глазами смотрел на него этот израильский jude… такие не шутят. В пенсионере Костромине включился давно дремавший врач-исследователь. Он примерно представлял, какой препарат впрыснул ему палач из прошлого, мог предположить его пролонгированное действие. Через шесть часов начнут неметь нижние конечности… они и немеют… потом холодок… вот и он… всё поднимается вверх ближе к сердцу… мутнеет сознание.
К полуночи того же дня Доктор Шприц прекратил своё земное существование.
…В это самое время в кабинете главврача Второй городской больницы два старинных друга пили кошерную водку из Израиля, закусывали больничными котлетами и винегретом (главный в этом смысле был не строг… лишь бы больные не голодали), и предавались приятным воспоминаниям о шаловливой молодости.
Они специально выбрали такой вечер-мальчишник, чтобы своими откровениями не смущать ни семью Ерёминых, ни людей за соседним столиком в ресторане. Всё было как в их лучшие годы, только Зигмантович потел и задыхался. Такие возлияния были ему категорически противопоказаны, но и без них жизни оставалось на год, вряд ли больше. Ну, и зачем себе в чём-то отказывать? Друг догадывался, сердце сжимала тоска, но не хотелось портить такой вечер… их последний вечер… врачебным занудством. Нет уж, лучше просто посидеть, как будто впереди ещё много.
Ерёмин вдруг встрепенулся:
- Скажи, Боря, а для чего ты брал шприц с раствором калия? Мне из процедурного докладывали…
Борух Зигмантович бросил быстрый взгляд на настенные часы, где две стрелки только что соединились на самом верху.
Маслины его семитских глаз вспыхнули мстительным злорадством… буквально на секунду.
- Да так, небольшой эксперимент в области психосоматики… не бери в голову, Ерёма. Слушай, помнишь Розу с фармацевтического? Да-да, рыжую, ещё гыкала безбожно. Что вытворяла, чертовка…
Леонид Черток Архангельск
Главные новости
За кулисами политики
все материалы
ПроКино
все обзоры
Жизнь
Виктор Павленко: Анатолий Ефремов считал Поморье ключевым стратегическим регионом России в Арктике
Кулинарные путешествия
все статьи
Литературная гостиная
 все материалы
все материалы
Архивы
Февраль 2026 (298)Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)

Деньги
все материалы
"Северодвинский торговый центр"
Верую
все статьи
Общество
все материалы
Разное
Золото в каждой капле: почему живое фермерское оливковое масло полезнее и вкуснее магазинных аналогов
Реклама
Дополнительные материалы
Полезное
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20
















