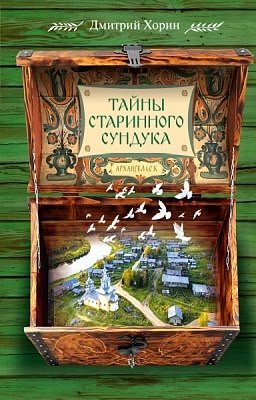9 мая на скамейке у Чистых прудов. Двое из 34 миллионов (сочинение ко Дню Победы)

По данным военных историков, в боевых действиях в годы Великой Отечественной войны участвовало 34 476 700 советских военнослужащих. В Армию и на Флот было призвано 490 тысяч женщин.
Каждое 9 мая баба Женя, одинокая московская пенсионерка со Сретенки, начинала собираться к выходу в город. Впрочем, бабой её называли только малолетние жильцы большой коммунальной квартиры. И то до старших классов. Для взрослых она была просто Женечкой, очаровательная до воздушности в свои почти 80. Всегда опрятная, никогда не появляющаяся на общей кухне в халате. Только домашнее строгое платьице с всегда выстиранным, безукоризненно отглаженным фартучком.
- Старая дева, - вздыхали за её спиной сердобольные соседки, жалеючи, - завела бы себе старичка какого, вон их сколько по бульварам, вдовцов, сидит, половинку себе на старость ищут.
Но Женечка себя блюла. Хотя и рассказывала одну историю, где-то услышанную, но примеренную на себя саму.
Итак…
Жила в большой Москве одинокая старушка. Часто ходила она на Чистые пруды. Покупала с лотка у метро «Кировская» горячий бублик за 5 копеек, половинку сама съедала, запив газировкой из будки «Газводы», а вторую половинку лебедям несла. Покрошит гордым птицам… потом сидит на лавочке, о принце мечтает.
Как-то раз к ней подсел старичок. Благообразный такой, аккуратный, в парусиновом костюмчике, как будто из фильмов 30-х годов, где ни разврата, ни пошлостей. Поговорили уважительно, оказался одиноким вдовцом, да ещё и бездетным.
Ну, и завязалось у них, почти каждый день встречались по вечерам. Потом стали перезваниваться, на Речной вокзал ездить. Ближе к осени, как и положено галантному кавалеру, сделал старичок нашей старушке предложение. Ну, а что, подумала она, сложим обе пенсии, как-нибудь проживём… ещё и комнаты наши обменяем на одну однокомнатную. И согласилась.
В назначенный день вышла наша нарядная старушка из подъезда на улицу, жениха ждёт. И останавливается перед ней большая чёрная машина… может «Волга», а может и «Чайка». А в ней на заднем сиденье… старичок-генерал с тремя большими звёздами на погонах. Адъютант выскакивает, ей руку подаёт, к старичку подсаживает.
- Так и стала наша старушка генеральшей, и живёт теперь в трёхкомнатной квартире на Кутузовском, - всегда мечтательно-одинаково заканчивала эту историю Женечка. Сретенская детвора непонимающе пожимала плечами и гоняла по своим делам. Взрослые понимающе цокали языками.
Женечка была вечная, как и её старый дом на Сретенке. Были родственники, жили недалеко, но всегда она к ним, а не они к ней. В коммунальной квартире сменилось уже не одно поколение – кто умер, кто сел, кто что-то отдельное получил от работы и съехал, кого-то из приезжих в столицу на освободившееся место заселили (говорили, что за взятку ЖЭКу). Баба Женя оставалась самым старым старожилом, никто уже не помнил, кто она да откуда. А ей и на руку.
Женечка происходила из богатой купеческой семьи, когда-то заставившей центр Москвы своими булочными. Только в несчастливое время она родилась, в предреволюционное. В итоге от богатства не счастье, а страх один. Особенно в НЭП, когда поверивших в возвращение частной собственности родственников стали ссылать за Можай. Тут кто-то ей и подсказал – исчезни, испарись. Пришлось уйти из старших классов, потом вечернюю тянула, поступить совслужащей, прикинуться начальству сиротой горемычной. Начальство оказалось добрым, выписало ордер на комнату, ничего не попросив взамен (типа девичьей чести). С родственниками, на всякий случай, не общалась, только перед войной начала, а родители ещё раньше померли. Фамилия её для Москвы нередкая, с такой и пролетарии ходят, никто специально искать не стал
Из-за этого и с кавалерами Женечка была строга и неприступна. Догадывалась, что если между ними серьёзно, то в душу к ней полезет… а там сплошной мрак и тайна.
Сложнее стало, когда война началась. Ещё в школе проходила курсы первой медицинской помощи, военкомат уже тогда взял на карандаш. И в госконторе своей, где занимала невнятную должность секретаря-курьера, её за молодость сделали главной ответственной за аптечку, что отразилось в каких-то бумагах. В итоге уже в августе пришла повестка явиться на сборный пункт. Весь вечер прорыдала не плече у сестры, которой было не до неё – сама собирала в ополчение близорукого мужа. Женечка смерти не боялась, точнее, не представляла её вовсе. Боялась неизвестности. Звука взрывов. И мужских домогательств.
Крови чужой, как ни странно, не боялась совсем. Опять ей повезло, увидав хрупкую, как степная былиночка, фигурку, ни у кого рука не поднялась послать такую на фронт. И даже в санитарный поезд, где известно, как натаскаешься. Пришлось служить Женечке в госпитале московском, который только-только расположился на территории Боткинской больницы.
Время было не для специализаций. Приходилось быть и операционной сестрой, и отстоять смену в перевязочной, и ночной дежурной медсестрой, и… и… и… . И всё-таки её берегли, часто просто усаживали оформлять медкарты.
Насчёт приставаний тоже волновалась зря. Не в том состоянии к ним люди с фронта поступали, не до амуров. Пока не случилось лето 42-го…
Летом 42-го в их госпиталь доставили тяжело раненых офицеров из-под Ржева, где в те дни зачиналась, наверное, самая жестокая и долгая мясорубка в той войне. Нехватка комсостава давно чувствовалась во всех войсках, поэтому офицеров стали беречь и старались вылечить. Отсюда и такая привилегия – московский госпиталь, простым солдатам оттяпали бы всё, что надо, в полевом.
В одной палате оказались командир полка, начальник его полковой разведки и ротный, перед самым последним боем прибывший из резерва в часть и первым поднявший свою роту в смертельную атаку. Этот, последний, и оказался первым, кто привлёк Женечкино внимание. Про себя она уже много чего понимала - и межсобойных разговоров медичек наслушалась, и литературу кой-какую полистала, что была в больничной библиотеке. Ну, фригидная, такой, видно, уродилась, ничего её не заводило, никакие мокрые сны не снились.
Но к Лёше, к раненому, было другое влечение. Хотелось спрятаться за него. От войны, от НКВД, от всего злого-презлого. И если обнимет, тоже не страшно, знала-чувствовала, что больно не сделает, не обидит, куда нельзя, не полезет. А куда нельзя? Ему везде можно… вот такая метаморфоза.
И ведь не ошиблась насчёт Лёши, с которым только переглядывалась, но ни разу одна не оставалась. Случилось это ближе к осени, когда пациенты ржевской палаты вставать начали и ходить потихоньку. Женечка как раз в процедурной дежурила, начальника разведки по очереди на перевязку вызвала. Боялась его интуитивно, взгляд больно шальной, нездоровый, сам весь как струна, спиной чувствовала от него угрозу. И дождалась – как повернулась спиной, он ей рукой шею перехватил, чтобы не пикнула, к кушетке подтолкнул и зло в ухо прошептал:
- Заголяйся, ромашка!
Женечка и поплыла. От страха. Сама ничего не делала, но молчала под его злыми руками. В себя пришла, когда услышала звенящий от гнева шёпот кого-то третьего:
- Отпусти… глотку вскрою.
Это был её Лёша, подсознанием почувствовавший, что за закрытой дверью перевязочной что-то не то. Теперь он держал скальпель, подхваченный со столика с инструментами, у самого кадыка злого пациента. Не как хирург держит, как… воин – почему-то подумала Женечка и стала ящеркой выкручиваться из-под застывшего тела несостоявшегося насильника. Потом ойкнула, и опрометью вон из перевязочной. И прямо в ржевскую палату, где отдыхал подполковник, он всегда первый в очереди на перевязку. Сказать ничего не может, только руками машет и глаза круглые.
Комполка и без слов всё понял, отправился, куда звали. А там всё та же мизансцена – скальпель у горла пациента со спущенными штанами. И шипят друг на друга как гуси, режим тишины соблюдают, чтобы Женечку в глазах всего госпиталя не дискредитировать.
Подпол скальпель отобрал. Начальнику своей разведки коротко бросил:
- Оправься и катись… всё потом.
На Лёшу смотрел внимательно:
- Ты молодец, лейтенант. Можешь написать родителям, что хорошего парня вырастили. Но и капитан не сволочь, он такой после зимней контузии, в госпиталь тогда идти отказался, а теперь вон как клинит. Буду думать, что с ним делать, он в марте солдата в атаке пристрелил, думал, тот назад повернуть хочет, еле замяли. А так мужик неплохой, боевой, жалко… Так напишешь родителям?
- Некому. Их в первый день бомбёжки Минска, я как раз в Москве сессию досдавал.
Подполковник очень внимательно посмотрел на лейтенанта и… отложил какой-то важный разговор.
На том и кончилось. А с капитаном ничего решать не пришлось. Он сам всё за всех решил – той же ночью удавился на дереве в прибольничном парке. Без предсмертной записки и объяснений. И как-то всем вздохнулось легко.
А у Лёши с Женечкой закрутилось. Сначала по-детски - стояли по углам, разговоры разговаривали, за ручки держались. Потом по-взрослому, когда лейтенанту стало можно выходить в город. Если Женечка не на дежурстве, оставались ночевать в её комнате, соседи относились с одобрительным пониманием. Самое главное произошло само собой, как будто нецелованная до этого барышня впустила в себя что-то родное. Без восторженных всхлипов, но с нежностью. По темпераменту они сразу стали семьёй, обойдя стороной стадию пылких любовников. И ко времени. Женечка только выглядела молодой и невинной, на самом же деле паспортный возраст к тридцати вплотную подходил. Лёша про это знал, но его не смущало. Наоборот, внутренне гордился – для него купеческая дочка себя сберегла, тайну сию открыла только ему.
А когда отпуск по ранению подошёл, лейтенант совсем на Сретенку переехал, ведь нигде другого дома, другой родной души у него теперь не было. Подполковник ещё долечивался, от отпуска отказался, через полстраны до дома ехать, а полк его гиб да не погиб подо Ржевом. Лейтенанта при себе держал, связи имелись, хотя военкоматовская комиссия хотела Лёшу перевести на другой фронт, где боевых лейтенантов вот как не хватало.
Но пришёл день прощания, ржевская палата окончательно перестала быть ржевской. Женечка поклялась вечно ждать своего Лёшу, промаялась две недели… а потом сделала совершенно невозможную для себя прошлой вещь – написала заявление о переводе в действующую армию. Просилась в санитарный поезд, ей почему-то казалось, что он обязательно пойдёт в сторону Ржева.
Может и пошёл бы… если бы не разбомбили на другом направлении. Женечка очнулась через два месяца, уже в казанском госпитале. Потом полгода восстанавливалась, никто не знал, что останется, что уйдёт навсегда – раненый мозг штука малопредсказуемая. Вернулось практически всё. Можно было письмо Лёше писать.
В ответ пришло – «адресат не найден». Ей объяснили, что такое бывает – часть расформировали или слили с другой, ещё какая-то канцелярская путаница. Женечка ждала отправки домой, в Москву. Уж её-то домашний адрес неизменный.
Выяснилось, ещё как изменный. Женечкин дом оказался в списке московских несчастливцев – прямое попадание авиабомбы. Семья сестры в эвакуации в Кургане, из армии демобилизована вчистую, госучреждение тоже где-то за Уральскими горами. Всё-таки устроилась медсестрой в гражданскую больницу, её там старались много не загружать, ночевала там же. И так до возвращения мира и эвакуированных. Родное госучреждение приняло обратно, хотя инвалидность имелась, но незаметная, да и своя, фронтовичка, просидевшее на брони начальство глаза непроизвольно тупило. И комнату дали, на той же Сретенке, только в другом переулке. Ах, как ругала себя Женечка, что так и не собралась познакомить Лёшу с сестрой, он бы и тот адрес знал.
Но делать нечего. Надо ждать. Женечка и ждала. Сначала затерявшегося письма, потом запроса на её розыск. А потом надежда на случайную встречу, просто на улице. Поэтому и выходила на 9 мая в центр города. По всем местам встреч фронтовиков – сквер у Большого, Парк Горького, Сокольники и т.д. К вечеру обязательно Чистые пруды, любимое место их недолгих прогулок. Ни к госпиталю, где встретила Алёшу, ни к санитарному поезду, где пробыла всего-то пару недель, она себя не причисляла, просто фронтовичка без определённого места службы. И никаких медалей, никаких колодок, только нашивка за ранение. У неё-то и было только «За оборону Москвы» и «За победу над Германией», юбилейные побрякушки за награды не считала. Но и без них её в любой компании фронтовиков сразу признавали за свою. В глазах что-то… знание войны, память о той боли.
Так проходили годы. Учиться не смогла, ранение мозга давало о себе знать. Всю жизнь в рядовых кадровичках. А как только 55 лет пришло, сразу же на пенсию проводили. С почётом, но и с облегчением, иногда менявшееся начальство учреждения как будто по наследству передавало каждому новому чувство вины перед ней.
Личная жизнь Женечки состояла из бесконечного ожидания Алёши. Или чуда, так будет вернее. По врождённой кротости характера она ничего не добивалась, не ходила по архивам, не отрывала письмами занятых людей. Просто ждала, что он вот-вот явится ниоткуда.
Проходила жизнь. Женечка старела рывками. Вчера ещё прелестная девушка… а завтра уже миловидная женщина за 40. Так же незаметно для самой себя превратилась в добрую старушку. Просто однажды утром посмотрела в зеркало и поняла, что нужно радикально менять гардероб… да и весь стиль тоже. Мужчин, встречавшихся ей на пути, не то, чтобы отшивала… они сами вдруг чувствовали себя лишними, понимали, что им с ней будет неинтересно. В сретенской квартире за ней закрепилось звание «вечной бабушки», которую можно попросить посидеть с внуками, но к семейному столу лучше не приглашать, всё равно не придёт.
Вот и в это 9 мая Женечка с утра пошла… вернее, поехала по известному маршруту – от ветеранов к ветеранам. Их с каждым годом всё меньше и меньше, но это хорошо – можно каждого в лицо разглядеть. Как обычно свой ежегодный праздничный путь закончила на лавочке у Чистых прудов. Всё как обычно… если бы рядом с ней не остановился высокий старик… да какой старик… её поседевший Лёша. Стоял и смотрел на свою Женечку как громом поражённый. Хотя тоже ждал этой встречи всю жизнь.
Говорят, в минуту страшной опасности перед глазами человека в считанные секунды проносится вся его жизнь. Так вот, для этого опасность совсем не обязательна…
…Лейтенант Алексей потерял свою медсестру Женечку почти сразу по прибытии в часть. Обстановка в Ржевском котле была такая, как будто и не было госпитальных месяцев в столице. Опять выживал каким-то чудом в той страшной мясорубке, не до писем, да и не хотелось лишний раз обнадёживать. А когда дошло дело до писем, то пришёл безнадёжный ответ – адресат выбыл. Писал на адрес московского госпиталя – убыла в действующую армию. Вот и думай… представляй страшное.
А к нему всё командир присматривался, сделал начальником полковой разведки. Про отношения с Женечкой знал, просто никак не рассуждал. Но когда Алёша, получивший старлея, пожаловался ему на пропавшую зазнобу, вдруг вздохнул с облегчением, и он это запомнил.
Уже после Ржева, когда их полк вошёл с боями в Белоруссию, комполка получил последнюю для себя в этой войне пулю. В такое место, что и пытаться достать бесполезно. Умирая в медсанбате, попросил позвать начальника полковой разведки и взял с него слово после Победы, если, конечно, выживет, доехать до его семьи, что проживала в большом дальневосточном городе.
- Дома у тебя больше нет. Женьки-москвички тоже. А у меня дочь-невеста… вдруг у вас слюбится? Будешь ей последним папиным подарком…
И умер.
И Лёша выжил. И победил. По демобилизации поехал через Москву, с Белорусского сразу на Сретенку. И долго стоял у так и не убранных развалин Женечкиного дома. В ЖЭКе сказали:
- Сведений по такой не имеем.
Прикинул про себя – дом разбомбили, сама на фронт ушла… слишком много для его воздушной девушки, чтобы выжить. Поехал за уральские горы. Действительно, стерпелось, даже родилось. Но вот слюбилось ли… За эти годы Алексей несколько раз был в Москве. В командировках. На встречи ветеранов ни разу не приезжал, не хотел бередить в сердце погибшую любовь. Свой брак с дочкой командира счастливым назвать не мог, скорее спокойным. Просто жила рядом милая женщина, которая однажды взяла и умерла, оставив в его душе после себя лишь лёгкую грусть, но никак не ощущение катастрофы. Двум катастрофам там просто бы не хватило места.
Лет пять тому минуло, и вот, выйдя с почётом на пенсию намного позже положенного срока, вдруг подорвался в столицу на главный праздник фронтовиков. Своих однополчан не искал, просто бродил по Москве, Женечку в сердце лелея. И ноги, уже немолодые, артритные, как-то сами вынесли к Чистым прудам. К скамейке, на которой столько лет его поджидала Женечка.
Слов не было. Алексей опустился рядом с Женечкой, взял её за руку… и вместе с этим родным теплом в его сердце вошла иголка. Сначала маленькая, но быстро стала расти… расти… в какой-то момент он уже не понимал, как может жить с такой болью. Которая кончилась с наступившей тьмой.
Женечка сразу всё поняла. Ей очень захотелось тоже умереть. И КТО-ТО её услышал…
… - Как голубки! Небось, прожили всю жизнь и умерли в один день, - вытирала слезу умиления грузная фельдшерица со скорой помощи, от которой год назад ушёл муж. – Эй, грузите осторожней! И сразу в морг… какая уж там больница.
Леонид Черток
Главные новости
За кулисами политики
все материалы
ПроКино
все обзоры
Жизнь
Виктор Павленко: Анатолий Ефремов считал Поморье ключевым стратегическим регионом России в Арктике
Кулинарные путешествия
все статьи
Литературная гостиная
 все материалы
все материалы
Архивы
Март 2026 (65)Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)

Деньги
все материалы
"Северодвинский торговый центр"
Верую
«Без воли человека помощь Божия невозможна»: в колонии Архангельска осужденные встретили Великий пост молитвой
Общество
все материалы
Разное
все материалыРеклама
Дополнительные материалы
Полезное
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20